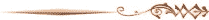 16
16 
Выехав за ворота, машины понеслись по широкой автостраде, проложенной, как легко догадаться, теми же британцами почти исключительно для собственных военных надобностей: до революции иметь личный автомобиль здесь считалось непростительным развратом (если только ты не родич и не приближенный султана или кого-то из владетельных эмиров). Ну, а после революции автомобилизация трудящегося населения пока что числилась, за предпочтением более насущных забот, по разряду светлого будущего. Так что на автостраде попадались либо военные самоходы, либо обветшавшие автобусы почти сплошь альбионских марок (хотя попадались и новенькие советские).
Пейзаж, как уже упоминалось, разнообразием не баловал – главным образом серо-желтый песок да иногда хилые пальмы, неизвестно почему названные великим поэтом «гордыми». Сразу видно, не бывал здесь поэт, в пустынных песках аравийской земли.
До самой столицы их ни разу не обстреляли – а ведь случалось все чаще…
Невредимыми они въехали в город. Сначала петляли по кривым улочкам, мимо глинобитных домиков с окнами во двор. Глухие стены густо залеплены яркими, красочными, аляповатыми плакатами, как один являвшимися не результатом идеологической помощи советских друзей, а исключительно плодом творчества местного агитпропа. Широкоплечие, улыбчивые, белозубые солдаты браво воздевали автоматы; широкоплечие, белозубые, улыбчивые крестьяне браво воздевали кетмени; широкоплечие рабочие нефтепромыслов… белозубые школьники… улыбчивые раскрепощенные женщины Востока… Даже седовласые представители трудовой интеллигенции, браво воздевавшие учебники, циркули и реторты, были не просто белозубые, а все подряд широкоплечие. И за спиной у всех непременным образом вставало разлапистое солнышко, распространявшее лучи на полнеба, – а иногда голубело море, сверкали нефтяные вышки, зеленели кудрявые деревья неизвестного вида и сияли хрустальные небоскребы. Разнообразия ради попадались плакатищи со столь же белозубым, широкоплечим и улыбчивым генералом Касемом, решительным жестом указывавшим соотечественникам единственно верный путь в светлое будущее.
Кое-где плакаты свисали клочьями, содранные быстрым вороватым рывком, – или, если были приклеены на совесть, зияли прорехами от чего-то вроде скребков. Всякий раз Ганим при виде такого безобразия страдальчески морщился, не в силах смотреть спокойно на столь явную контрреволюцию – не в переносном смысле, а в самом что ни на есть прямом, повреждение плакатов согласно изданным декретам считалось империалистической контрреволюцией и каралось соответственно. Но, как ни старался генерал Асади, недобитые контрреволюционеры каждую ночь являли мурло.
Вскоре потянулись кварталы более европейского облика – «чистая половина» столицы, былая витрина просвещенного правления покойного султана. Здесь уже красовались не одни только рисованные агитки, но и афиши кинотеатров (где перемешались кадры из золотого фонда советской кинематографии с безыдейными поделками Голливуда).
Вот только с одним из кинотеатров ночью определенно приключилась беда – высокие витрины выбиты напрочь, вход окаймлен широкой полосой копоти. Опытным глазом Мазур определил, что сюда, несомненно, шарахнули не одну бутылку с «коктейлем Молотова».
– Контрреволюция, – сердито нахмурясь, пояснил Ганим. – Враги широко пользуются невежеством и отсталостью народных масс, тяжелым наследием султана. На афише была девушка в купальнике, и какие-то фанатики ночью… На главном базаре давно уже шептались, но точной информации не поступало.
Мазур хмыкнул:
– У вас там что, мало агентуры?
Понизив голос, Ганим с грустью проговорил:
– На главный базар не хватит никакой агентуры, товарищ…
Мазуру в это охотно верилось – он сам там бывал пару раз. В самом деле, необозримая барахолка, исполненная определенной экзотики. Правда, он не углублялся в самые дебри лавчонок и мастерских – ему категорически запретил тот же Ганим, печально поведавший, что в сердце Большого базара может, пожалуй что, пропасть без вести не то что одинокий чужеземец, а целый взвод гвардейцев вместе с парочкой джипов.
Той же нешуточной экзотики был исполнен и один из султанских дворцов в центре города, к чьим главным воротам подлетели машины – и смирнехонько встали под прицелом двух тяжелых пулеметов, установленных за аккуратными стенками из мешков с песком, а также двух орудий серьезного калибра, принадлежавших шестиколесным броневикам «Саладин», замершим у ворот на манер египетских сфинксов.
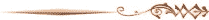 16
16 


 Капец
Капец Не понимаю юмора в том, что ггерои оба- просто невменяемые, она- тупая, как пробка, но...
Не понимаю юмора в том, что ггерои оба- просто невменяемые, она- тупая, как пробка, но...