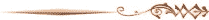 7
7 
Но сладость сладости рознь! Не все они равно священны. Путем долгих исследований я установила, что ближе всего к теологическому идеалу шоколад.
В подтверждение можно было бы привести множество научных аргументов, начиная с того, что только в нем содержится теобромин – этимология говорит сама за себя! Но в этом, на мой взгляд, есть что-то унизительное для шоколада. Его божественность выше всякой апологетики.
Ибо достаточно положить в рот кусочек хорошего шоколада, чтобы не только уверовать в Бога, но и ощутить Его присутствие! Бог – не сам шоколад, а его соприкосновение с нёбом, способным его оценить.
Бог – это я, когда я вкушаю или предвкушаю наслаждение, а значит, я все время Бог.
Умом родители не понимали моей божественной сути, но на темном подсознательном уровне, думаю, всё знали и принимали. Я была на особом положении. Когда мне пришла пора учиться, меня не отдали в американскую школу, как брата с сестрой, а записали в ётиэн, японский детский сад, или подготовительную школу, в конце нашей улицы.
Я очутилась в тампопо-гуми – классе одуванчиков, меня нарядили в форму: темно-синюю юбочку, такого же цвета блейзер и берет, надели на спину маленький ранец. Летом этот костюм заменялся похожим на палатку широким балахончиком и конической соломенной шляпой – я превращалась в двухэтажный домик с остроконечной крышей.
На вид все было прелестно, а на деле – жуть! С первого же дня я прониклась к этому ётиэну глубоким отвращением. Одуванчиков, похоже, готовили к казарме. Я была согласна воевать, но ходить строем по свистку, подчиняться командам капралов, переодетых учительницами, – все это я считала оскорбительным для себя и для других тоже.
Во всей школе я была единственной неяпонкой. Из этого, разумеется, не следует, что всем остальным такие порядки были по душе. Было бы низостью полагать, что тот или иной народ имеет природную склонность к рабству.
Нет, другие дети, скорее всего, чувствовали то же, что я, и мы все одинаково притворялись. Это подтверждают фотографии того времени: я на них так же улыбаюсь, как все, прилежно шью, склонившись над работой, а на самом деле тычу иголкой как попало. Прекрасно помню свое настроение в этом питомнике одуванчиков: меня переполняли злость, возмущение и страх. Учительниц, так непохожих на мою ласковую няню Нисиё-сан, я от всей души ненавидела. Фальшивые приторные улыбки еще усиливали это чувство.
Помню такой эпизод. Одной из наших капральш взбрело на ум, чтобы мы дружно пели хором жизнерадостную песенку о том, как нам нравится быть веселыми послушными одуванчиками. Я сразу решила, что ни за что не буду ломать эту постыдную комедию, и, поскольку в хоре отдельные голоса не слышны, только делала вид, будто пою (так же, как каждый день делала вид, будто мне хорошо в школе), а сама беззвучно открывала рот. И радовалась, что придумала такой удачный способ тайного неповиновения.
Но учительница, видимо, разгадала мою хитрость и однажды сказала:
– А теперь будем разучивать по-другому, по очереди: каждый пропоет две строчки гимна одуванчиков и передаст эстафету соседу, и так с начала до конца.
Я не сразу почуяла опасность. Решила по такому случаю сделать исключение и разочек попеть вслух. Но мало-помалу поняла, что совсем не знаю слов: гимн одуванчиков до такой степени претил моему мозгу, что в нем не отпечаталось ни словечка. Я шевелила губами просто так, даже не пытаясь изображать то, что следовало петь.
Между тем моя очередь неотвратимо приближалась. Единственное, что могло бы меня спасти, не считая внезапного землетрясения, это если бы еще до меня обнаружился другой симулянт. Я почти не дышала.
Однако другого преступника не оказалось. Наступил роковой момент: я открыла рот, но звука не последовало. Гимн одуванчиков, бодро, в безукоризненном ритме перелетавший из уст в уста, вдруг рухнул в немую бездну, носящую мое имя. На меня обратились все взоры, и самым настойчивым был взор учительницы. С притворным благодушием, как будто в самом деле поверив, что я просто сбилась, и желая помочь мне включиться в цепочку, она подсказала первое слово моей порции гимна.
Бесполезно. Я окаменела и даже не могла повторить подсказку. К горлу подступала тошнота. Учительница настаивала. Я молчала. Она подсказала еще одно слово – опять ничего. Она спросила, не болит ли у меня горло. Я не ответила.
Неприятнее всего было, когда она спросила, понимаю ли я, что она говорит. Ведь то был намек: если бы я была японкой, такого бы не случилось; если бы я говорила на ее языке, то и пела бы вместе со всеми.
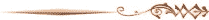 7
7 


 Капец
Капец Не понимаю юмора в том, что ггерои оба- просто невменяемые, она- тупая, как пробка, но...
Не понимаю юмора в том, что ггерои оба- просто невменяемые, она- тупая, как пробка, но...